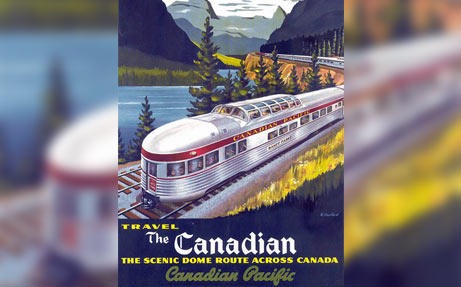
Сколько лет я прожил в Северной Америке, и за все это время ни разу не въезжал в большой город на рейсовом поезде. Пользовался время от времени только пригородными, что, согласитесь, «не то». Большие поезда со спальными местами – сегодня на нашем континенте это ускользающая экзотика, это не легитимный транспорт, а, скорее, вид развлечения, который ты можешь позволить себе разве что в составе тургруппы. Ну, или один раз в своей жизни попадешь в реликтовый поезд, будучи молодоженом. И это будет твое свадебное путешествие.
А вот на исторической родине мы все еще очень часто пользуемся поездами, хотя и там они тоже подорожали. Уже несколько лет ездить на поезде накладнее, чем летать самолетом или сидеть за рулем собственного автомобиля. За комфорт, в том числе за возможность отправления из самого центра большого города, приходится платить, и поэтому в России, как и на Западе (в первую очередь на «Диком Западе»), поездами все чаще ездят туристы. А местные жители, студенты, командированные или спешащие на какое-нибудь торжество или памятное мероприятие — со всеми своими мини-баулами (состряпанными под жестяные ограничители у стоек регистрации) втискиваются в салоны «Боингов» бюджетных авиалиний.
Но поезда мы, тем не менее, любим и не отказываемся от них, несмотря ни на что. В России сохранились с советского времени почти все фирменные составы, начиная от знаменитой «Красной стрелы» (она еще ходит и билеты на нее даже стоят сейчас дешевле, чем на «Сапсан»!) и заканчивая какими-нибудь там «Тихим Доном» или «Львом Толстым» («Толстой» почему-то был пущен в Хельсинки, куда с 2010 года ходит еще и скоростной «Аллегро»). Хотя, к слову, прилететь на Дон в наше время проще простого.
Езжу поездами и я. Особенно удобными считаю поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, включая те самые ночные, которыми в детстве и юности я только и перемещался (скоростной поезд между столицами ходил тогда всего один).
Приехав недавно еще раз в свой родной Петербург, я поймал себя на мысли, что никакое другое место в мире не приводит меня в такое возбуждение, когда я к нему приближаюсь. Почему? Ведь я в душе путешественник, люблю новые горизонты, новые места, новых людей и новые впечатления. В молодости я много где был: и в Европе, и в Азии, не говоря об Америке. Повидал диковинок на своем роду. Но почему-то меня «приклеивает» к вагонному стеклу, только когда я подъезжаю к Петербургу, где-то примерно за час. Причем я даже выхожу из купе и стою в коридоре, потому что там окна крупнее и обзор лучше. Новые города так меня не притягивают. Спрашивается: ну чего такого я в Питере не видел? Какое новое для себя граффити боюсь пропустить? Зачем мне всякий раз, как заговоренному, нужно вглядываться в отлично знакомые, наизусть затверженные названия станций «Колпино», «Металлострой», «Ижорский завод», «Обухово», «Рыбацкое» и т.д. до самой «Фарфоровской»? Ведь я уже видел все это сто, двести раз. Зачем мне уходящий вдаль Обводный канал с его «американскими» мостами? Какой кайф бросить взгляд на Лиговку? И так ли уж живописны эти купчинские дома? Соблюдается какой-то странный ритуал, который владеет мной, лишь когда я подъезжаю к Петербургу. Никакой другой город не влияет на меня так гипнотически: ни Москва, ни Нижний Новгород, ни Красноярск, ни Ростов. То есть, там я просто буду полеживать на полке или посиживать за столиком, подперев голову рукой, и поглядывать. С относительным интересом я въезжаю только в Анапский район, где стоит мой дом и где я живу. Но это уже интерес слегка хозяйский: а что тут такого-этакого понаворотили в станицах за время моего отсутствия? Однако Питер уже давно не мой город и даже совершенно мне чужой, и я вовсе не собираюсь жить в нем хоть сколько-нибудь долго.
Это маниакальное влечение к одному-единственному месту на земле трудно логически объяснить. Уверен, я не вглядывался бы с таким же тщанием в незнакомые мне Калькутту, Мельбурн, Буэнос-Айрес, Берлин и т.д. Что-то такое есть в этом городе, чего я не могу не впитывать, и это явно не аура «культурной столицы» (для всех нас культурной столицей уже давно является собственный смартфон или планшет).
Чтобы понять, что же это такое (ведь это не ностальгия, и не стремление вернуться в детство), надо немного отвлечься от темы. В связи с долгим и непростым лечением я стал по-настоящему верующим человеком, и даже истово верующим, если вспомнить, что до этого являлся бесстыжим циником и материалистом. Нужда, как говорится, заставит. Теперь я верую не только в Бога и его архангелов, но даже в гороскопы, в предопределение судеб, в непогрешимость добра и т.д., и т.п. Трудно не верить, и все мы, лечащиеся, верим. Так вот, по гороскопу мой знак – воздушный. Значит, и сам я ветреный, легковесный, ускользающий. И действительно: воздух мне всегда особенно необходим. Без него я чувствую себя плохо. Иметь возможность выйти на воздух, спать при открытом окне – это мои базовые радости. Ведь без еды мы можем прожить пару недель, без воды – три дня, а без воздуха – ну, две минуты. Это самое важное, что у нас есть, просто мы уже о том и не помним, не думаем.
Ценность воздуха понимаешь, разве что когда тебя душат. Причем и в прямом смысле слова, и метафорически. Когда советских граждан душила собственная власть, они как никто другой боготворили пресловутый «воздух свободы», которым могли наслаждаться в первом же западном аэропорту. И ведь ничего такого в том воздухе не было: ну, оттенки виргинского табака (тогда еще не запрещали курить на транспорте), глянцевые журналы, разные там кожаные шмотки, к ним же добротный крем для обуви, само собой, всевозможные парфюмы и чистящие средства на спирту. Не будем же прибавлять сюда, в самом деле, запах картошки фри из «Макдональдса»! Но вот именно потому, что «совкам» было душно в своей стране, тот воздух казался им «свободным».
Сейчас в связи с лечением и постоянными госпитализациями я вдыхаю свой «воздух свободы» каждые четыре недели. Я уже привык к этому и превратил в подобие ритуала. В московской больнице, конечно, не душно, там отличная вентиляция, установленная немцами или швейцарцами несколько лет назад за кругленькую сумму. Но из-за запахов тех самых дезинфицирующих средств на спирту больничный воздух ужасно, невыносимо угнетает, до тошноты и до отчаяния. Слава Богу, есть дворик, в который можно сбежать. Однако самый настоящий, непобедимый экстаз охватывает тебя только после выписки, когда выходишь из дверей, оставив бумажный пропуск на вахте, и стоишь, бездумно подняв голову к небесам и вдыхая какой-нибудь запах трамвайных рельсов, выхлопов, даже пусть и свеженанесенной жэковской краски, — и все равно это воздух свободы!
Точно так же должны, наверное, чувствовать себя освобожденные, которые наконец-то избавлены от запаха пота сокамерников, махорки, портянок, плесени и пр. (в казармах и тюрьмах я, слава Богу, не был, не знаю наверняка).
Потому-то я и озаглавил этот прозаический фрагмент восклицанием. Ведь уж слишком часто за последние месяцы стоял я на свежевымытых поливальными машинами московских улицах, дышал, как посетитель соляной пещеры или заправский парфюмер, и без малейшего стеснения восхищенно провозглашал на потеху всем окружающим:
— Воздух свободы!
Самое же острое ощущение благодарности и вызволения мне довелось пережить по причине одного не самого приятного происшествия. В моей больнице, очень большой, технически превосходно оснащенной и великолепно функционирующей, чуть ли не главные люди – это анестезиологи. Я понял это сразу, ведь в дни первой же моей госпитализации гораздо сильнее меня отругал именно анестезиолог, а не заведующая отделением (ругать было за что). От анестезиолога зависит, будет ли у тебя операция и когда. Без анестезиолога хирург даже рукава не закатает. Мало того, среди анестезиологов и текучка такая же, как среди премьер-министров в какой-нибудь Италии.
Их должность и звучит «анестезиолог-реаниматолог», хотя, конечно, никакой анестезиолог не горит желанием еще и реанимировать пациента.
За все время лечения я познакомился уже с пятью анестезиологами. Все они выполняли свою работу отменно, но один раз (по причинам, не зависящим ни от больницы, ни от меня) случился аврал, из-за которого меня слишком быстро ввели в медикаментозный транс, а затем так же оперативно попытались из него вывести. Я пришел в сознание, но не проснулся, так как пошевелиться не мог. Я был в состоянии лишь слабо махнуть рукой. На просьбу анестезиолога пожать ему руку я так и откликнулся (пошевелив двумя-тремя пальцами), что он встретил лаконичной и нисколько не ободрившей меня репликой:
— Очень плохо!
— Он не отхаркается! – категорически отозвался его напарник. (Дело в том, что при анестезии в трахею вставляется дыхательная трубка, при этом ты дышишь, хотя весь рот забит слюной).
Что я мог донести до них? Я был не в состоянии шевелить языком, и даже мычал я слабо, неслышно. Один мой глаз не открывался. Соображал я едва-едва. В конце концов они приподняли мне спину, один вытащил трубку из моей трахеи, а второй подошел поближе, готовясь к наихудшему. Вздохнуть я, увы, был не в силах. Очень быстро меня охватил ужас. Прошло, наверное, всего несколько секунд. Выплюнуть слюну было невозможно. Анестезиолог подставил салфетку, но я все равно был не в состоянии ничего сделать. В голове мелькнули отвратительные мысли: мол, умереть, захлебнувшись слюной, было бы совсем противно. Тогда я каким-то чудом сообразил, что продышаться будет легче носом, а не ртом, и приложил к этому все усилия (спасибо сверхъестественному существу, пославшему мне именно эту мысль именно в это мгновение!). И ура, воздух действительно прошел в ноздрю! Это была победа. Я задышал сначала чуть-чуть, потом побольше и наконец смог кое-как выплюнуть в несколько приемов всю жидкость изо рта. Вот после этого меня охватило такое безудержное счастье, какое, может быть, испытывает повешенный, которому повезло сорваться с крюка (его, может быть, скоро снова повесят, но ведь он все равно счастлив!).
После этого досадного происшествия я находился в сильнейшем шоке. Несколько дней проходил с крепко сжатыми челюстями и даже спал так же. Разжались они до конца, наверное, дней через пять-семь. Но все равно я удивлялся каждому вдоху и чувствовал себя заново родившимся. Вот что значит воздух!
Потому-то и подумалось мне сейчас: не оттого ли меня так сильно тянет глазеть на приближающийся Петербург, что несколько десятков лет назад именно здесь я впервые, можно сказать, «вышел на свободу» из материнской утробы? Ведь утроба – это идеальная тюрьма, из нее можно выбраться только путем побега, ну, или тебя освободят при помощи кесарева. В утробе ты не наделен никакой инициативой. Да и сама-то жизнь – ведь она и есть не что иное, как свобода. До того, как мы появились на свет, мы совершенно несвободны. Мы собой не управляем, не властны ни в своем будущем, ни в своем настоящем. Нам могут легко перейти дорогу, выбирая пресловутое «право женщины на выбор» и всевозможные виды контрацепции. Мы свободны лишь после того, как выбрались наконец-то всем чужим ухищрениям назло на Божий свет и сделали первый вдох. Это – единственное в своем роде и неповторимое освобождение от пут небытия, угнетения.
Итак, позволю себе нехитро резюмировать: жизнь – это и есть свобода, в том-то и весь ее смысл. Наверное, на каком-то глубинном подсознательном уровне я вспоминаю это, когда подъезжаю к городу, в котором появился на свет. Тем более что поезд из Москвы (а я приезжаю только оттуда) проходит всего в паре километров от конкретной точки на карте, где меня когда-то приняла акушерка у матери. Не иначе, именно этим меня и манит сегодня Петербург, в отличие от всех других больших и замечательных городов планеты. Не корюшкой же! Не Мариинкой и не «Зенитом»! И даже не замечательными библиотеками «на растерзание» у многочисленных родственников.
Кстати, о библиотеках. Вот Пушкин, как мы хорошо помним, оставил крылатое:
— Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы…
Ты ведь тоже Близнец по гороскопу, воздух, Меркурий! Я, впрочем, совершенно не «горю» никакой свободой, поскольку «горю» — это значит «сгораю». Для меня свобода – это жизнь, так же как жизнь – это свобода. И потому-то я с такой радостью «дышу» сейчас этой свободой, не особенно связывая ее ни с какой-нибудь частью света, ни со страной, ни с политической системой. Ты жив – значит, свободен, а потому прими это к сведению и не жалуйся.











