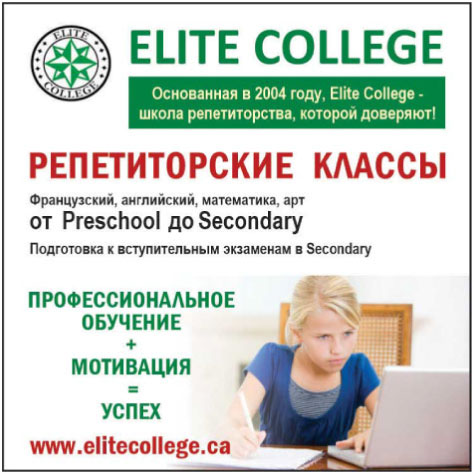Как вы думаете, доводилось ли Фаусту бывать в Венгрии? Фаусту из поэмы Иоганна Гёте 1831 г. — нет, а из оратории Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» 1846 г. — пришлось.
На благо партитуры
В начале действия оратории Фауст, изначально персонаж народной легенды 1507 года, оказывается в Венгрии, где композитор заставляет его присутствовать при проходе венгерской армии по долине, избранной героем для того, чтобы предаваться своим мечтам. Зачем понадобилось Берлиозу переносить Фауста за пределы Германии, где он обитал со времен появления легенды о нем? Этого не понимали немецкие критики, в раздражении не принявшие и саму музыку Берлиоза.
«Один из немецких критиков, — пишет в своих «Мемуарах» композитор, — нашел чрезвычайно странным, что я заставил Фауста прогуляться в такое место. Не понимаю, что могло бы помешать мне сделать это. Я не поколебался бы ни одной минуты отправить его в любое другое место, если бы это пошло на благо моей партитуре. Я вовсе не обязан строго следовать плану Гете. А, кроме того, такому персонажу, как Фауст, можно предписывать самые фантастические путешествия, не нарушая этим сколько-нибудь резко границ возможного и вероятного».
Вслед за первым критиком и другие стали яростно атаковать композитора за то, что он в своем либретто слишком отдалился от текста поэмы Гете. На этот выпад Берлиоз ответил им в своем предисловии к «Осуждению Фауста», что ему не представляется реальным переложить такую поэму на музыку всю целиком, не нарушая ее порядка.
В своих мемуарах композитор с горькой иронией предположил, что нападки немецких критиков на его версию «Фауста», скорее всего, вызваны патриотическими чувствами. Те же самые критики не высказали негодования по поводу того, что в своей симфонии «Ромео и Джульетта» Берлиоз позволил себе достаточно вольностей. Почему? «Потому, разумеется, что Шекспир не был немцем, — пишет композитор. – Патриотизм! Фетишизм! Кретинизм! »
Вино свободы и славы
И все же зачем понадобилось Берлиозу именно в Венгрию перенести Фауста? На то у него имелись вполне определенные основания. Дело в том, что за год до того, как вышла его оратория, Берлиоз написал «Марш Ракоци», известный как «Венгерский марш», принесший ему невероятную славу. Именно этот марш звучит в первом действии драматической легенды, как определил жанр своей оратории сам композитор. Однако звуки бравурного марша не могут разогнать тоску скучающего Фауста. В партитуре рукой Берлиоза было приписано: «Тема этого марша, которую я инструментовал и разработал, знаменита в Венгрии под именем Ракоци, она очень древняя и принадлежит неизвестному автору. Это боевой напев венгров».
В своих «Мемуарах», изданных четверть века спустя, композитор рассказал историю, которую, по мнению исследователей творчества Берлиоза, вряд ли можно считать имевшей место в действительности. Во время его гастролей в ноябре 1845 г. в Вене к нему явился некий любитель музыки, просивший сохранить его имя в тайне, и вручил ему ворох старинных венгерских мелодий, обратив внимание композитора на тему Ракоци. Берлиоз называет ее «священная тема, которая на протяжении стольких лет заставляет биться венгерские сердца и опьяняет их вином свободы и славы». Ференц Ракоци II (1676—1735) был правителем Трансильвании, возглавившим в начале XVIII века народную борьбу против Австрии, поработившей Венгрию.
Дуэль из-за Гектора
Впервые Венгерский марш был исполнен под управлением автора в Национальном театре в Пеште 6 марта 1846 года и принес композитору потрясающий успех. В книге «Берлиоз», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», исследователь творчества композитора Теодор Валенси пишет, что поначалу публика опасалась профанации, и приводит выдержку из статьи, появившейся сразу после концерта: «Концертный зал переполнен, возбужден, может быть, враждебен. Как воспримут этот «Марш», своим звучанием напоминающий битву? В тот миг, когда он должен был, взмахнув палочкой, вызвать ураган звуков, его охватил страх. Волнение сжало горло… Он поднял руку. Позади ни шороха, холодная, застывшая, грозная тишина. Начало «пиано» тревожит и смущает венгров… Но вот звучит «крещендо» — бурный бег, несущаяся конница… Возбуждение битвы… «Глухой бой барабана, словно продолжительное эхо, разносится далеким пушечным выстрелом». В зале оживление… «Крещендо» все более и более зажигает; зал волнуется, бурлит, гудит… При «фортиссимо», которое он так долго сдерживал от криков и неслыханного топота, казалось, затряслись стены, и волосы у Берлиоза «стали дыбом». Он «затрясся от ужаса». Буря в оркестре казалась бессильной против извержения этого вулкана. Пришлось все начать сызнова… Венгры могли сдерживаться «от силы две-три секунды».
Биограф замечает, что успех открыл Берлиозу увлекающую силу «Венгерского марша», превращенного им в настоящую оркестровую эпопею. Берлиозу приходит мысль использовать эту пьесу в финале акта какой-либо оперы или заключения какой-нибудь части «драматической легенды». А он как раз в это время сочинял своего «Фауста»! Так почему бы не украсить новое произведение пьесой, полюбившейся публике!
Валенси пишет, что венгры были в восторге от марша и обратились к Берлиозу с просьбой посвятить им «Марш Ракоци», что тот и сделал. 15 лет спустя Общество венгерской молодежи в память об этом событии прислало композитору серебряный венок с гербом города Дьёра.
Дальнейшие гастроли — в Бреславль, Прагу и далее — проходили не менее успешно. Пресса писала: «Он оставил нам огня по крайней мере на год. Надо надеяться, что музыка в Бреславле извлечет из этого пользу». В Праге в его честь устроили банкет, на котором композитору подарили массивный кубок из золоченого серебра, а Лист назвал его «кратером гениальности». Валенси где-то нашел информацию, что «знаменитый пианист, выпив несколько больше, чем следовало, отказался возвратиться домой, пожелав прежде схватиться с одним артистом, утверждавшим, что он пил во славу Гектора Берлиоза лучше, чем Лист. И как схватиться? Стреляться из пистолетов, причем с двух шагов. Только и всего! »
Вслед за этим русский император велел преподнести Берлиозу великолепный перстень, а князь Гогенцоллерн-Гегинген — массивную золотую шкатулку тонкой резьбы, инкрустированную драгоценными камнями.
«За свою жизнь, — писал Гектор, — я не переживал подобных часов».
На волне успеха своего марша Берлиоз решил вставить его в ораторию. Таким образом Фауст на время оказался в Венгрии.
Накануне революции 1848—1849 годов марш Ракоци стал подлинным национальным гимном венгров, его насвистывали на улицах городов и называли главной музыкальной эмблемой зарождающегося движения за независимость. А написал эту музыку французский композитор.
Первая попытка
Прозаический перевод первой части «Фауста» Гете появился в Париже в декабре 1827 года и стал для 24-летнего Берлиоза настоящим потрясением. Позже в «Мемуарах» он записал: «Чудесная книга очаровала меня с первого раза, я не расставался с ней, я читал ее не переставая, за столом, в театре, на улице, повсюду… »
Берлиоз вспоминал, что перевод в прозе содержал несколько стихотворных отрывков, песен, гимнов и прочее, которые, он, поддавшись искушению, переложил на музыку.
Так появилась музыка к восьми сценам из «Фауста», и Берлиоз задумал симфонию «Фауст», к сочинению которой так никогда и не приступил. «Едва окончил эту трудную работу и не послушав ни одной ноты из моей партитуры, я имел глупость напечатать ее… за свой счет». Однако партитуру увидел знаменитый берлинский критик Маркс, который поощрил 24-летнего композитора и тем самым, как заметил в «Мемуарах» Берлиоз, оставил его в заблуждении по поводу ценности написанной им музыки. Позже, когда композитор вновь вернулся к своему «Фаусту», он признавал, что заложенные в той партитуре идеи имеют право на существование, поэтому он их сохранил и развил. Однако композитор смело признал, что произведение было «незаконченным и очень плохо написанным». Он разыскал все экземпляры напечатанных «Восьми сцен» и уничтожил их.
Золотая медаль… за провал
Критики называют ораторию «Осуждение Фауста» вершиной творчества Берлиоза. Он писал ее во время гастролей по Европе, между выступлениями. Ему принадлежат и многие стихи в либретто.
«Стоило лишь начать – а дальше стихи, которых мне недоставало, рождались одновременно с приходившими в мою голову музыкальными мыслями, и я написал свою партитуру с такой легкостью, какую я редко испытывал, работая над другими своими произведениями. Я писал ее всюду, где только мог: в карете, на железной дороге, на пароходах…» – вспоминал композитор.
Однако во время премьеры в Париже оратория потерпела провал. И даже вставленный в произведение Венгерский марш не спас положение. Сам Берлиоз, размышляя о постигшей его музыку неудаче, объясняет это сложившимися обстоятельствами.
«Дело происходило в конце ноября (1846 года), шел снег, погода была ужасная, у меня не было модной певицы для исполнения партии Маргариты», — сокрушался Берлиоз. Более того, певцы, поющие Фауста и Мефистофеля, тоже “не числились в разряде модных». «Все это привело к тому, что мне пришлось исполнять «Фауста» при полупустом зале. Милая парижская публика, посещающая концерты, про которую говорят, что она интересуется музыкой, преспокойно оставалась дома, так же мало заботясь о моей новой партитуре, как если бы я был самым что ни на есть неизвестным учеником Консерватории… Ничто за всю мою артистическую карьеру не оскорбило меня так глубоко, как это неожиданное равнодушие. Это открытие было так жестоко, но полезно в том отношении, что я сделал из него вывод, и с тех пор я уже больше не рисковал поставить хотя бы двадцать франков на веру в любовь парижской публики к моей музыке… Я был разорен…» – с горечью в сердце записал композитор в своих «Мемуарах». Однако точку на этом никто ставить не собирался. Как пишет Теодор Валенси, было и забавное в серьезном:
«Несмотря на поражение, о котором шумел весь Париж, Гектор и его друзья захотели разыграть роль победителей. Что ж, не стоит их осуждать. 29 октября в честь «Осуждения» был устроен банкет. Председательствовавший на нем барон Тейлор выступил от писателей, Осборн — от английских, Оффенбах — от немецких
деятелей искусства». Роже — певец, исполнявший партию Фауста «сделался восторженным выразителем мнения певцов». Было решено на средства, собранные по подписке, в память о знаменательном событии выбить золотую медаль”.
***
«Осуждение Фауста» («La damnation de Faust») редко исполняется в полном объеме. Чаще в программах разных концертов звучат входящие в ораторию Венгерский марш, «Балет сильфов» и «Менуэт блуждающих огней». А у нас с вами есть возможность услышать это произведение уже в ближайшее время. Им открывает свой новый сезон Монреальский симфонический оркестр. Выступление состоится 17 и 18 сентября в Симфоническом доме. Продолжительность: 2 часа 16 минут. Оратория звучит на французском языке с субтитрами на французском и английском языках. Билеты: от $34,49 до $172,46.